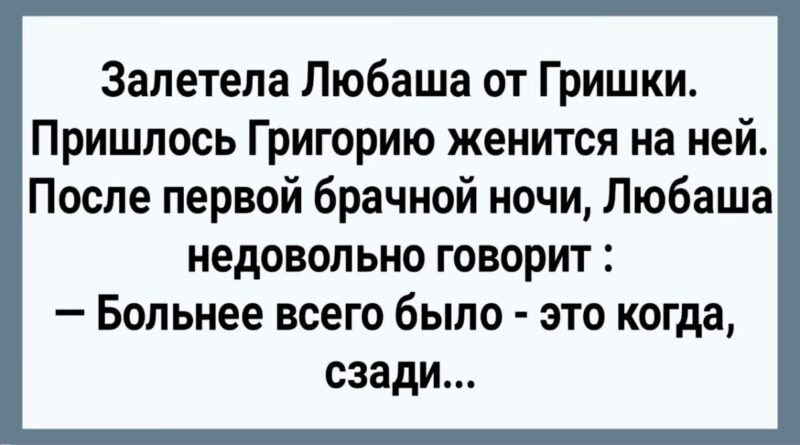История о браке без любви, где боль начинается задолго до …
Любаша и Григорий
История о браке без любви, где боль начинается задолго до первой ночи
Введение
В маленьких деревнях новости не приходят — они просачиваются. Сначала в виде шёпота за калиткой, потом взгляда, задержавшегося на секунду дольше обычного, а уже к вечеру становятся всеобщим знанием. Так случилось и тогда.
Любаша залетела от Гришки.
Слова были простые, грубые, как комья мерзлой земли. В них не было сочувствия, только приговор. Любаше было девятнадцать. Она ещё не успела толком понять, кто она и чего хочет от жизни, но деревня решила за неё быстро и без колебаний.
Григорию пришлось жениться.
Не потому что любил. Не потому что хотел. А потому что «так надо».
Свадьбу сыграли тихую. Без песен, без радости. Белое платье на Любаше висело тяжело, будто чужое. Она улыбалась — так, как улыбаются люди, которые уже поняли, что пути назад нет.
Развитие
Григорий смотрел на неё настороженно. Раньше он видел в Любаше просто девчонку — смешливую, простую, удобную. Теперь она стала его женой. Обузой. Ответственностью, к которой он не был готов.
— Ничего, — говорил он себе. — Привыкну.
Но привычка — не любовь. И не жалость.
После свадьбы они остались одни в холодной комнате. За стеной шептались родственники, скрипели половицы, кто-то смеялся — будто чужая радость специально подбиралась поближе.
Любаша сидела на краю кровати, сжимая пальцами край покрывала. Внутри у неё было пусто и страшно. Она ждала не ласки — приговора. Она знала: этой ночью от неё будут ждать того, на что у неё не было ни сил, ни желания, ни права отказаться.
Утром она сказала это вслух. Тихо. Без упрёка. Слова вырвались сами, будто тело заговорило раньше разума:
— Больнее всего было… когда ты был сзади…
Григорий замер. Не потому что понял. А потому что почувствовал неловкость, почти раздражение.
— Не начинай, — буркнул он. — Чего ты хотела? Мы теперь муж и жена.
Он отвернулся. Для него эта ночь была просто обязанностью. Для неё — границей, за которой она перестала быть собой.
Дни потянулись серые, одинаковые. Любаша старалась быть хорошей женой. Готовила, убирала, стирала. Иногда гладила живот и говорила с ребёнком шёпотом — единственным, кто принадлежал ей по-настоящему.
Григорий всё чаще задерживался вне дома. Говорил, что устал. Что ему тяжело. Что он «не для этого жил».
Она слушала молча.
Однажды вечером, когда боль в спине стала невыносимой, Любаша поняла: боль — это не только тело. Это постоянное ощущение, что ты лишняя в собственной жизни. Что тебя терпят. Что тебя не выбирали.
Роды были тяжёлыми. Кричать было нельзя — «не барыня». Плакать — стыдно. Когда ребёнка положили ей на грудь, Любаша не почувствовала счастья. Только облегчение. И страх: как жить дальше?
Григорий посмотрел на сына и кивнул. Без эмоций.
— Нормальный, — сказал он.
И ушёл курить.
Годы прошли незаметно. Любаша постарела раньше времени. В зеркале на неё смотрела женщина с потухшими глазами. Она редко жаловалась. Никогда не кричала. Просто жила — изо дня в день, из обязанности в обязанность.
Григорий так и не стал ей близким. Он был рядом — физически. Но душой всегда где-то далеко.
Иногда по ночам, когда дом затихал, Любаша лежала, глядя в потолок, и думала: а если бы тогда она сказала «нет»? Если бы не побоялась осуждения? Если бы выбрала себя?
Но прошлое не возвращается. Оно остаётся внутри — в виде боли, которую уже не вылечить.
Самое страшное в этой истории было не то, что она залетела.
И не то, что её заставили выйти замуж.
Самое страшное — что её никто ни разу не спросил,
хочет ли она так жить.
И эта боль —
она была сильнее любой другой.
После родов Любаша долго не могла прийти в себя. Не телом — душой. Тело, как ни странно, зажило быстрее. А внутри будто что-то навсегда надломилось. Она вставала по ночам к ребёнку, кормила, укачивала, шептала колыбельные, которые сама помнила ещё от матери. В эти часы она чувствовала себя живой. Всё остальное время — просто нужной.
Григорий почти не бывал дома. Говорил, что работа, что деньги сами себя не заработают. Приходил поздно, ел молча, ложился спать, отвернувшись к стене. Иногда, будто вспомнив о долге, делал то, что считал супружеской обязанностью. Любаша не сопротивлялась. Она просто смотрела в одну точку и ждала, когда всё закончится.
Однажды она всё-таки сказала:
— Мне больно.
Он вздохнул раздражённо.
— Вечно тебе что-то не так. Другие терпят — и ничего.
Слова ударили сильнее, чем любое действие. Значит, терпеть — это норма. Значит, её боль — это пустяк.
Прошёл год. Потом второй. Ребёнок подрос, начал ходить. Любаша радовалась каждому его шагу, каждому слову. В нём было всё, ради чего она ещё держалась.
А Григорий всё чаще пил. Сначала по праздникам, потом «для снятия усталости», потом просто так. Иногда он становился грубым, резким. Иногда — холодным и чужим. Он так и не простил ей того, что его жизнь пошла не по плану.
Однажды ночью он пришёл пьяный и сказал:
— Знаешь, если бы не ты… всё было бы иначе.
Любаша молчала. Она давно поняла: оправдываться бесполезно. Виноватой её сделали ещё тогда, когда всё только началось.
Зимой она сильно заболела. Температура, кашель, слабость. Она всё равно вставала, готовила, стирала. Пока однажды просто не смогла подняться с кровати. Ребёнок плакал, тянул к ней ручки.
Григорий постоял в дверях.
— Вечно ты разваливаешься, — сказал он. — Мне на работу.
Он ушёл.
Соседка помогла вызвать фельдшера. В больнице Любаше сказали, что надо было раньше. Что организм изношен. Что нужно беречь себя.
Она слушала и думала: а когда?
Вернувшись домой, она уже была другой. Тише. Слабее. Но в глазах появилось что-то новое — усталое понимание.
Весной она написала письмо. Простое, неровным почерком. Не Григорию — сыну. На будущее. На случай, если её не станет.
Она писала о том, что любовь — это не терпение. Что боль — это не норма. Что он ни в чём не виноват.
Через месяц Любаши не стало.
Говорили — сердце. Говорили — слабая была. Говорили — судьба.
Григорий стоял у гроба молча. Смотрел на её лицо — спокойное, почти молодое. Впервые за много лет ему стало не по себе. Словно он понял что-то важное, но слишком поздно.
Ребёнок рос у бабки. Иногда спрашивал про маму. Григорий отвечал коротко:
— Умерла.
А по ночам ему всё чаще снилась та первая ночь. И её голос. Тихий, без упрёка:
«Больнее всего было…»
И он просыпался с тяжёлым, глухим ощущением, которое уже невозможно было исправить.
Потому что есть боль, которая проходит.
А есть та, с которой остаёшься навсегда.