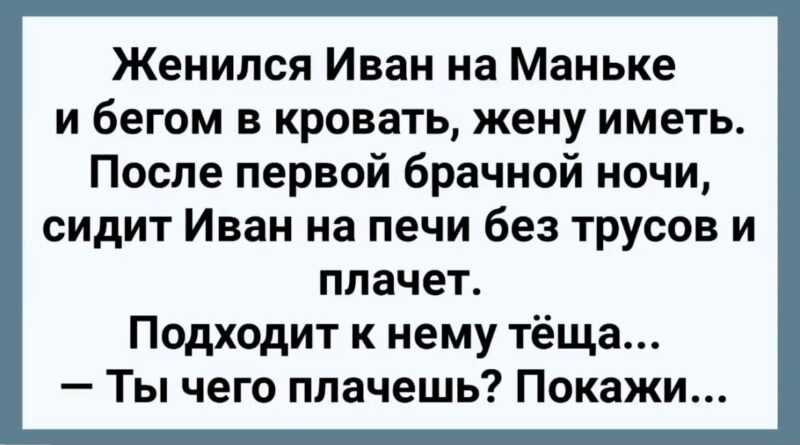Женился Иван на Маньке — свадьбу сыграли шумную, на весь район. Гармонь рвала меха, самогон лился рекой, куры разбежались, собака охрипла от лая, а дед Прохор три раза терял сапог и каждый раз находил чужой.
К вечеру гостей еле выпроводили. Остались только самые стойкие — тёща, тесть, да бабка-соседка, которая «просто посидеть». Но и тех в конце концов уложили: кого на лавку, кого под лавку, кого вовсе в сени.
А Иван — молодой, горячий — сразу Маньку под руку и бегом в избу:
— Всё, — говорит, — жена моя законная, пора семейную жизнь начинать!
Утром — тишина. Петух орёт, корова мычит, а в избе странное что-то.
Сидит Иван на печи, без трусов, уткнулся лбом в колени и рыдает. Не всхлипывает — воет, как будто у него налоговая душу забирает.
Заходит тёща — женщина опытная, жизнь видала, мужиков тоже.
— Иван… — осторожно так. — Ты чего это, зятёк, с утра пораньше голосишь?
Иван голову поднимает — глаза красные, нос течёт.
— Всё… конец…
— Чего конец? — настораживается тёща. — Браку? Жизни? Или просто похмелье?
— Себе… — шепчет Иван.
Тёща прищурилась.
— Ну-ка, слезай. Покажи.
Иван сначала упирался, краснел, но потом махнул рукой — мол, хуже уже не будет. Слез с печи, повернулся спиной.
Тёща посмотрела. Помолчала. Потом хмыкнула. Потом засмеялась.
А потом расхохоталась так, что тесть из сеней вывалился, думая, что пожар.
— Господи, — говорит, — Ваня, да ты чего удумал?
— Как чего?! — всхлипнул Иван. — Я ж теперь… это… мужик негодный!
— Кто тебе это сказал?
— Да никто! Я сам понял!
Тёща вытерла слёзы и посадила Ивана за стол.
— Слушай сюда, горе ты луковое. Первая ночь — она как первый блин. У кого комом, у кого сковородка не прогрелась, а у кого мука не та.
Тут просыпается Манька, зевает, выходит:
— Чего шумите?
Иван на неё смотрит, как на икону, и опять реветь собирается.
— Ты чего его довела? — строго спрашивает тёща.
Манька пожимает плечами:
— А я что? Я лежала, как учили.
Тут тесть вмешался:
— Ваня, ты трактор водить умеешь?
— Умею…
— А с первого раза завёл?
Иван задумался.
— Не…
— Ну вот и тут так же. Не трактор, конечно, но принцип похожий.
В итоге Ивана напоили чаем, дали огурец, выгнали всех из избы и сказали:
— Идите. Второй раз — не первый.
К вечеру Иван уже ходил по двору с таким видом, будто как минимум изобретение сделал. А через год у Маньки родилась двойня.
И с тех пор Иван, напившись, любил говорить:
— Мужиком не рождаются. Мужиком становятся. Иногда — со второй попытки.
А тёща каждый раз добавляла:
— И с хорошей консультацией.
Но на этом, как водится в деревне, история только разогрелась, потому что если в селе что-то случилось — оно не заканчивается, пока об этом не узнают все, включая тех, кто давно помер, но «если бы был жив — тоже бы смеялся».
На следующий день Иван вышел во двор — грудь колесом, походка важная. Думает:
Ну всё, теперь мужик. Семейный. Состоявшийся.
А за забором уже ждут.
Дядька Степан, кум Фёдор и соседка Пелагея, у которой слух лучше, чем радио.
— Ну что, Ванюха, — прищурился Степан, — как первая ночь?
Иван кашлянул.
— Нормально.
— А чего ж ты утром на печи без штанов ревел? — тут же вставила Пелагея.
Иван покраснел, как свёкла.
— Это… от счастья.
Фёдор хмыкнул:
— Ага. Я тоже так плакал, когда корову продал.
Смех пошёл по дворам, как пожар по сухой траве. К обеду уже вся деревня знала, что «у Ивана что-то там не так», но каждый знал по-своему. Один говорил — сглазили. Другой — перепугался. Третий — что «слишком старался». А бабка Агафья вообще заявила:
— Это всё потому, что в четверг женились. В четверг нельзя — день шаткий.
Иван сначала злился. Потом махнул рукой.
Деревня — она такая: сегодня смеются, завтра завидуют.
А Манька тем временем ходила довольная. Щёки румяные, глаза светятся.
— Чего лыбишься? — спрашивала мать.
— Да так, — отвечала Манька. — Жизнь началась.
Прошёл месяц. Потом второй. Иван уже совсем освоился в роли мужа: дрова колет, воду носит, тёще не перечит — умный стал. И тут тёща как-то вечером говорит:
— Ваня, а ну-ка зайди.
Иван напрягся.
— Опять проверка?
— Да нет, — улыбается. — Просто сказать хочу.
Она помолчала, потом добавила:
— Ты, зятёк, тогда на печи сидел и плакал не потому, что что-то не так. А потому что испугался. А испуг — он у живых бывает. У нормальных.
Иван почесал затылок.
— А я думал… всё… конец.
— Конец, — фыркнула тёща, — бывает только у дураков, которые сразу сдаются.
Через год, когда у Маньки живот стал заметный, деревня притихла. Потом зашепталась. Потом загудела.
— Гляди-ка, — говорил Степан, — а Иван-то, выходит, не такой уж и безнадёжный.
— А ты что думал, — отвечала Пелагея. — Он просто человек. А не петух ярмарочный.
Когда родились двойняшки, Иван стоял у крыльца, держал на руках по свёртку и смеялся так, что у него тряслись плечи.
— Ну что, — сказал Фёдор, — теперь не плачешь?
Иван посмотрел на детей и ответил:
— Теперь если и плачу — то только от счастья. И в трусах.
С тех пор прошло много лет. Иван стал уважаемым мужиком, Манька — крепкой хозяйкой, а тёща — легендой. И каждый раз, когда в деревне женился новый парень, ему обязательно говорили:
— Ты не бойся, если что — печь выдержит. Главное потом слезть и жить дальше.
Потому что в жизни, как и в браке,
не первая ночь главное,
а то, что ты делаешь после неё.
И вот тут история окончательно превратилась в деревенскую притчу, которую рассказывали уже не ради смеха, а «чтоб жизнь понять».
Прошло лет десять. Иван посолиднел, живот появился — не от лени, а от уважения. Работал много, пил умеренно, ругался редко. Двойняшки бегали по двору, как два вихря, Манька командовала хозяйством так, что даже гуси ходили строем.
А тёща… тёща стала местной инстанцией.
К ней шли не только за советом, но и за вердиктом.
Однажды вечером прибегает соседский парень — Васька. Молодой, худой, глаза круглые.
— Тёть Марин, — шепчет, — можно к вам?
— Заходи, — отвечает тёща, даже не глядя. — Жениться собрался?
Васька вздрогнул.
— А откуда вы…
— Сядь, — говорит. — Иван, подвинься.
Иван поднял глаза, усмехнулся.
— Первый раз?
Васька кивнул.
— Боишься?
— Очень…
Иван посмотрел на него долго, потом сказал:
— Это нормально.
Тёща поставила чайник, как когда-то давно.
— Запомни, Вась, — сказала она, — если ты после первой ночи не испугался, значит, ты либо дурак, либо врёшь.
Васька слушал, как проповедь.
— Любовь, — продолжила тёща, — это не когда всё сразу получается. А когда не получилось — и ты остался.
Иван добавил:
— И в трусах, желательно.
Смех разрядил комнату.
А потом Иван вышел на крыльцо, сел на ту самую печь, что теперь стояла во дворе как летняя, посмотрел на небо и подумал:
Вот ведь как. Тогда я думал — позор. А оказалось — начало.
Иногда человек думает, что упал.
А на самом деле — просто сел, чтобы потом встать правильно.
И если бы кто-то спросил Ивана, что главное в браке, он бы ответил просто:
— Не скорость.
Не храбрость напоказ.
А умение не убежать, когда стало страшно.
И где-то в глубине души он был благодарен той первой ночи.
За слёзы.
За печь.
И за тёщу, которая вместо смеха сказала:
«Покажи».
Прошли ещё годы, и история обросла такими подробностями, что сам Иван уже не всегда узнавал себя в рассказах.
Где-то говорили, что он трое суток на печи сидел.
Где-то — что тёща его веником гоняла.
А один раз Иван услышал в соседнем селе версию, по которой он вообще в первую ночь в лес убежал, а вернулся только весной, «созревшим».
Он слушал, кивал и не спорил.
Потому что понял одну простую вещь:
если над тобой смеются — значит, ты живой.
Если вспоминают — значит, был важен.
Когда двойняшки выросли и стали подростками, как-то вечером один из них спросил:
— Батя, а правда, что ты в первую ночь плакал?
В избе стало тихо. Манька замерла с полотенцем, тёща — уже седая, но всё такая же зоркая — подняла бровь.
Иван подумал.
И сказал честно:
— Правда.
— А чего?
Иван посмотрел на сына и ответил без шуток:
— Потому что понял, что теперь отвечаю не только за себя.
Сын задумался. Потом кивнул.
— Нормально, — сказал. — Я бы тоже, наверное.
Тёща улыбнулась. Манька выдохнула.
А Иван в тот момент понял: вот он, настоящий итог. Не смех, не байки, не легенды — а то, что страх перестал быть стыдным.
Когда Иван состарился, его часто просили «рассказать ту самую историю». Он отмахивался, но иногда всё-таки говорил:
— Слушайте сюда.
Если вам когда-нибудь покажется, что вы опозорились — подождите.
Время иногда делает из позора опору.
А потом добавлял, уже тихо:
— Главное, чтобы рядом оказался кто-то, кто не будет смеяться первым. А спросит:
«Ты чего?»
И если в ответ ты сможешь сказать правду — значит, всё у тебя получится.
Так и жила эта история.
Не как анекдот.
А как напоминание:
даже самый смешной страх может оказаться началом нормальной, крепкой жизни.